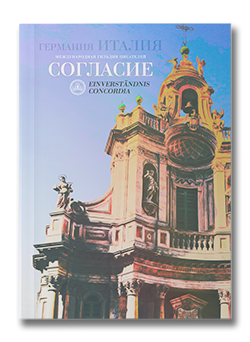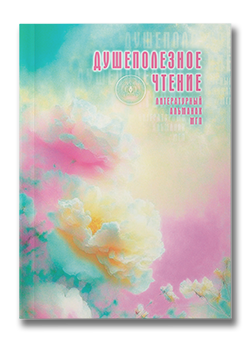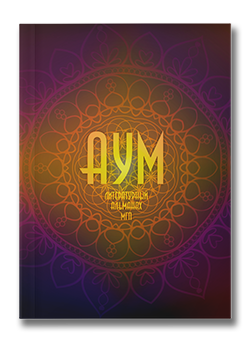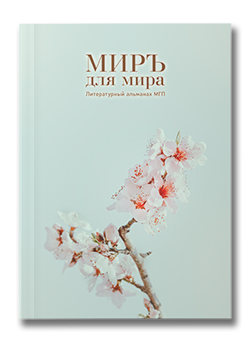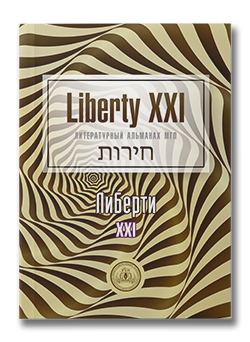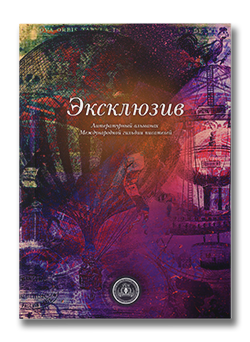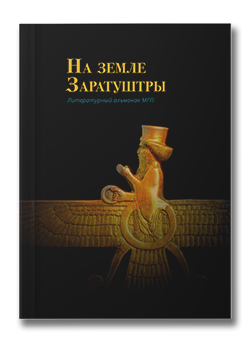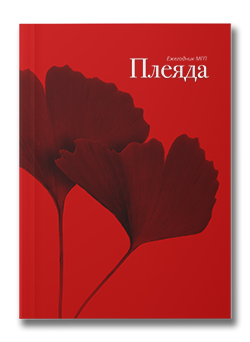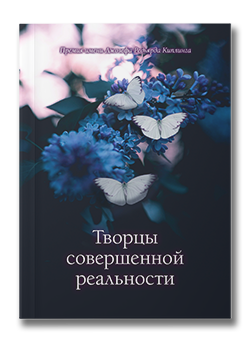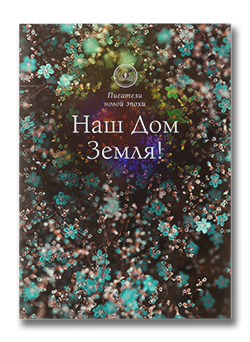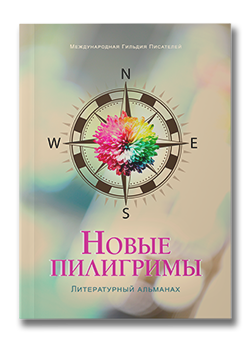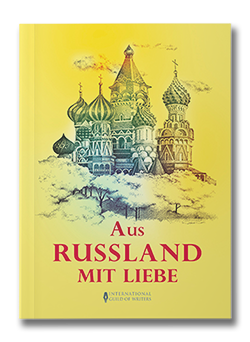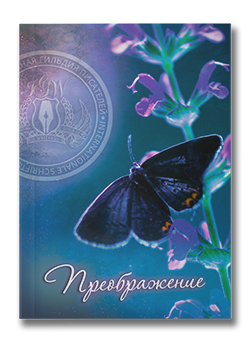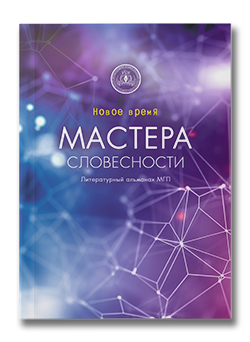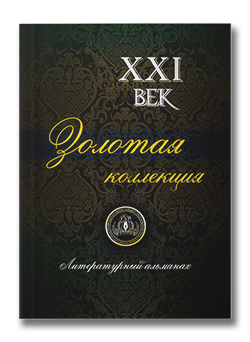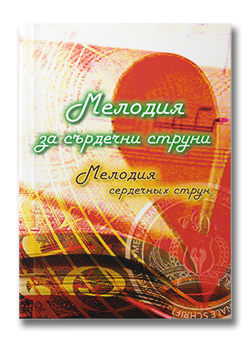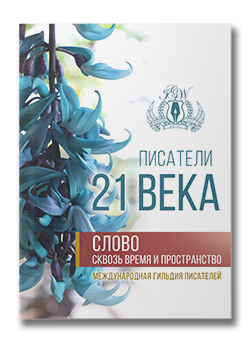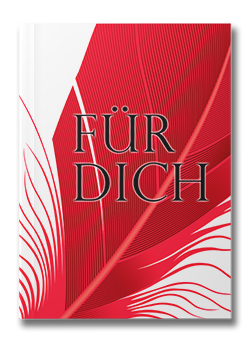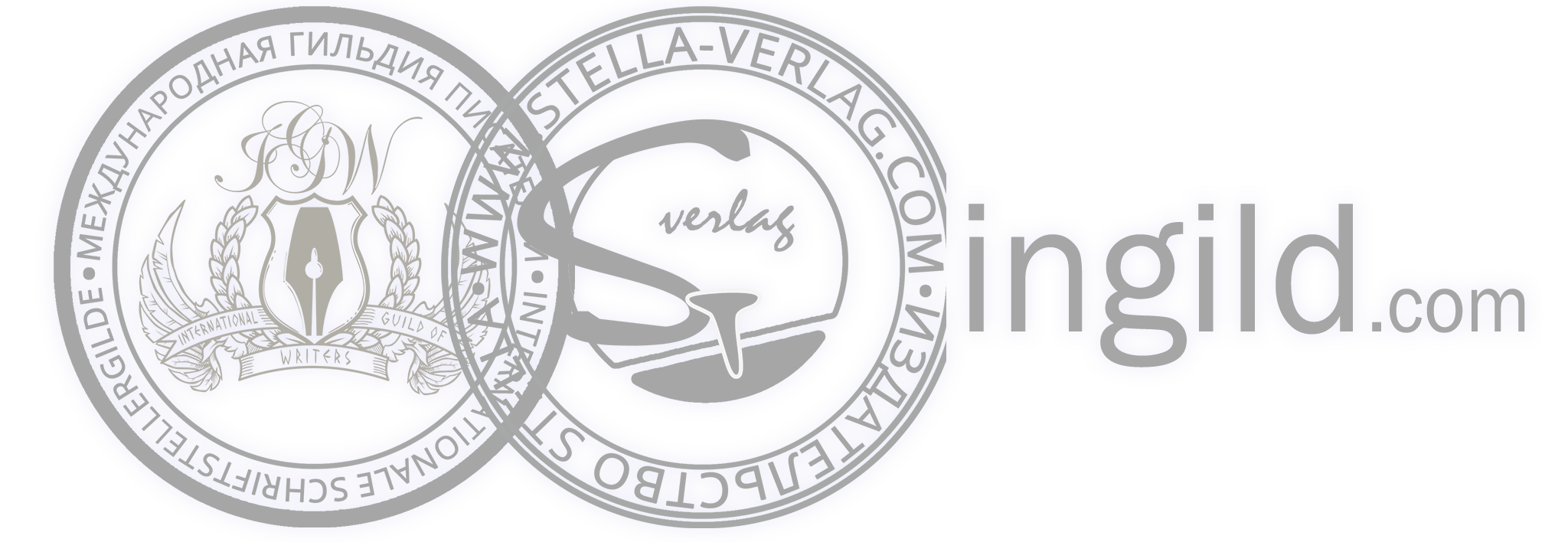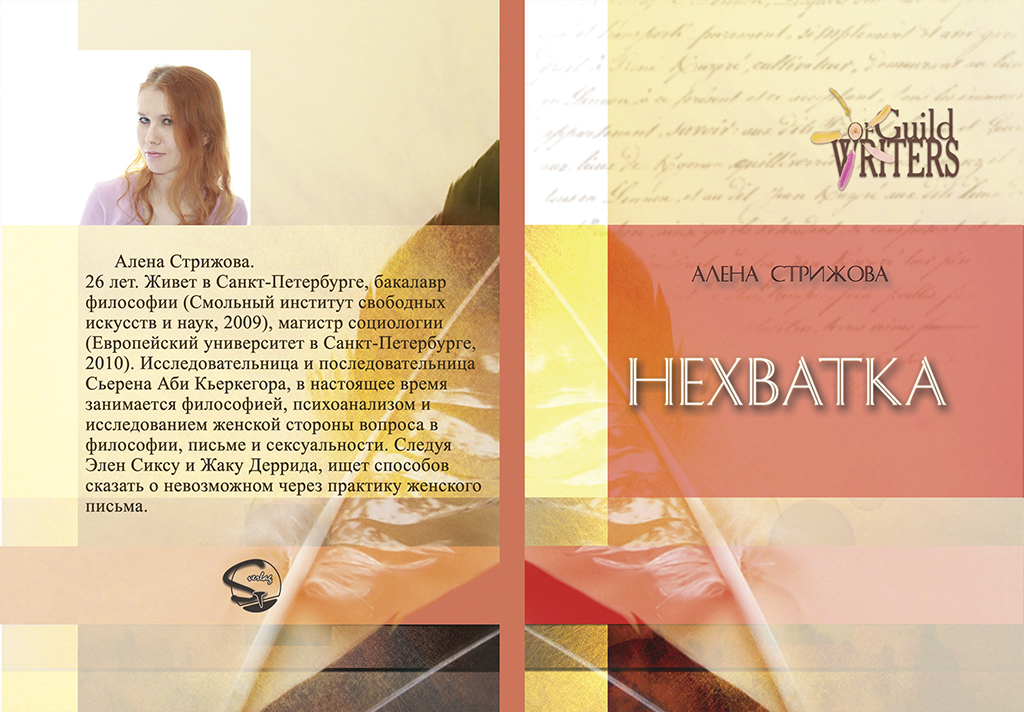
Рецензия на книгу Алёны Стрижовой «Нехватка»
Автор: Ольга Равченко
Тишины хочу, тишины…
Андрей Вознесенский
И соскользнула к тебе, как, впрочем,
всегда соскакивает флирт на фаллос.
Алёна Стрижова
Эпиграф к книге Алёны Стрижовой:
О чём невозможно говорить,
о том следует не молчать, а писать.
Жак Дерида
Пишу
Сложно выступать в роли критика произведений автора, образовательный уровень которого выше твоего: «живёт в Санкт-Петербурге, бакалавр философии (Смольный институт свободных искусств и наук, 2009), магистр социологии (Европейский институт в Санкт-Петербурге, 2010). Исследовательница и последовательница Сьерена Аби Кьеркегора, в настоящее время занимается философией, психоанализом и исследованием женской стороны вопроса в философии, письме и сексуальности. Следуя Элен Сиксу и Жаку Деррида, ищет способов сказать о невозможном через практику женского письма».
Справочно:
Сёрен Обю Кьеркегор – датский религиозный философ, психолог, писатель. Основоположник экзистенциализма. Кьеркегор задолго до Зигмунда Фрейда использовал термин сексуальность.
Элен Сиксу – французская постструктуралистка, писательница и литературный критик, теоретик феминистского литературоведения. Автор концепции «женского письма».
Жак Деррида – французский философ, создатель концепции деконструкции. Один из самых влиятельных философов конца XX века, Деррида часто игнорируется в англо-американской традиции аналитической философии.
Экзистенциализм, также – философия существования: направление в философии XX века, акцентирующее своё внимание на уникальности бытия человека. Развивался параллельно родственным направлениям персонализма и философской антропологии, от которых он отличается, прежде всего, идеей преодоления, а не раскрытия человеком собственной сущности и большим акцентом на глубину эмоциональной природы.
Согласно экзистенциальному психологу и психотерапевту Р. Мэю, экзистенциализм – не просто философское направление, а, скорее, культурное движение, запечатлевающее глубокое эмоциональное и духовное измерение современного человека, изображающее психологическую ситуацию, в которой он находится; выражение уникальных психологических трудностей, с которыми он сталкивается.
Среди феминисток возникла идея, что женщины писали и пишут иначе, чем мужчины, поэтому становится необходимой теория женской литературы, женского письма.
В статье «Феминистская литературная критика» украинская гендерная исследовательница, доктор философских наук, профессор кафедры теории культуры и философии науки Харьковского национального университета Ирина Анатольевна Жеребкина, в частности, пишет: «Основной целью феминистской литературной критики является переоценка классического канона «больших» литературных текстов с точки зрения 1) женского авторства, 2) женского чтения, а также 3) так называемых женских стилей письма. В целом феминистская литературная критика философско-теоретически может быть ориентирована по-разному, но одно остаётся общим для всех её разновидностей – это признание особого способа женского бытия в мире и соответствующих ему женских репрезентативных стратегий. Отсюда основное требование феминистской литературной критики о необходимости феминистского пересмотра традиционных взглядов на литературу и практики письма, а также тезис о необходимости создания социальной истории женской литературы».
До ФЛК (феминистской литературной критики) я не доросла, но охотно погрузилась в доступные мне горние источники, прочла имеющиеся в сети произведения Алёны Стрижовой, взглянула на книгу «Нехватка» с колокольни «женского письма», но сегодня пишу – в целом и в частности – с позиций среднестатистического постсоветского читателя.
*Отчаяние*
Всегда догадывалась, но никогда не думала о том, что слово «отчаяние» произошло от слав. «чаяние – ожидание, надежда» и «от» в – значении окончания действия (ср. отработал, отгулял): состояние, связанное с утратой надежды; крайняя степень чувства безвыходности, безысходности, безнадёжия, хронического безденежья. В христианстве отчаяние связано, прежде всего, с чувством богооставленности, напрямую связано с унынием и представляет одну из крайних его форм, когда христианин лишается надежды на помощь Бога в жизни.
У героини книги с христианским Богом – полный ажур: не забыла и не отказывается.
Отчаяние – безысходность, бесперспективность, собственное бессилие, страх…
У меня были строки:
…стремительно растущее отчаянье –
без злобы,
с надеждой зыбкою
на помощь извне.
Речь в моём стихотворении шла о неизлечимой болезни близкого мне человека, которому медицина не дала ни единого шанса. И тем не менее я лелеяла надежду – пусть даже зыбкую, а одна из подруг спросила: «Неужели ты не веришь в чудо?!» До такой степени – не верила.
Там же, где ситуацию можно исправить, предпочитаю бороться. Вероятно, это у меня от мамы, которую второго ноября тысяча девятьсот тридцать шестого года – в восьмилетнем возрасте – в одночасье превратили в дочь врага народа. Когда мне говорят: «Не падай духом!», – мгновенно парирую выпад: «Не про меня!»
У Алёны Стрижовой, конечно же, речь идёт о болезни. О смерти, которую нужно заслужить (так называемую «лёгкую смерть»), и о страстном желании самого человека – иногда – немедленно умереть: готового добровольно сдаться, хотя говорят, что Бог не посылает человеку испытаний больше, чем он может вынести.
О закрытых вратах рая. «О чём кричит умирающий? Почему он хочет войти в Ворота по-христиански? Или отойти по-Сократовски в сторону?»
Автор оставляет нам надежду: «Негативное перейдёт в позитивное», – только «нужен прыжок», чтобы «в своём полёте оказаться по ту сторону пропасти. […] Снова жить. […] Писать другим шрифтом. Быть собой или не собой. Но быть. Высший дар – жизнь».
Что есть мгновенье? Автор предлагает массу вариантов: жизнь, вспышка озарения, быстротечность счастья, единство Бога и человека, чудо, божественное миро, отводящий руку Авраама Ангел Господень… И наступление смерти, разящая тебя пуля, потухшая свеча жизни, «жизнь отдельного экзистирующего индивида для Мирового духа».
Поиск жемчужины. Вспышка фотокамеры.
*Становление субъективностью*
Лишь социологи «верят в существование объективной реальности…»
«…для познания и разума» автор предпочитает «свои собственные ноги», свой мир, свои «глаза, и никакие чужие не могут разглядеть то, что лежит передо мной».
«Но что же тогда есть реальное? Это двойственность моего Я между моим внутренним и моим внешним, это постоянная борьба и взаимопереход этих созданных мною противоположностей друг в друга».
Иди и смотри.
*Экзистенциальное слово*
Слово, согласно автора, – Божественный дар и смертоносное оружие. Аура говорящего. Летящее (отпущенное) слово – меняющее ауру под воздействием «тех, кто прикасался к нему устами». Мёртвое слово. Возрождающее слово. Переинтерпретированное, переистолкованное – утратившее ауру. Сухое, информативное, фактичное, актуальное. Мутирующее. Разлагающееся. Новое. Штампованное. Взорванное – с целью привлечения внимания. Пустое. Искусственное. Свободное. Услышанное. Признанное. Проходящее мимо. Неощутимое.
Уговаривание. Неподчинение. Отталкивание. Непонимание.
Бесчувственное. Поверхностное. Не несущее света и жизни – потому что говорящим заболтано и разболтано. Игнорируемое – если им «грузят». Бездушное. Теснящее и ненужное – слово.
Но: наступает «выход за пределы слова, смысла, языка. Тогда спасает молчание как умирание. […] Только через сердце мира оно возвращается в своё истинное бытие, становится святым, словом Божиим…» – через любовь.
«…человек открывается для Слова божественного. Его слово уже очищено страданием, омыто слезами. Тогда оно выводит человека на сокровенный истинный диалог с Богом, в котором человек умирает для прежнего словоблудия, и перерождается в своём существе, обращаясь к истине, как своему настоящему началу».
*Ипостась*
Великолепна универсальная легенда о путнике, оказавшемся в шаге от счастья, отделённого от страждущего его соискателя бездонной пропастью.
Путник – девушка, претерпевающая самые невероятные метаморфозы в стремлении создать для возлюбленного «просто сад, о котором можно вспомнить как об опыте Эдема, где возможны и искупительные жертвы».
Акме.
*Нехватка*
«В ничто можно тоже найти точку опоры, определённое равновесие по недопусканию в себе живого, по неотпусканию себя в поток…»
Добавить просто нечего.
*Свидание*
Гениально просто – про: уничтожение тела – духом.
*Движение Реального*
Марафон. Определённо читать.
*Билет на поезд, которого нет*
Чётко представляю себе героев рассказа. Сопереживаю героине. Искренне желаю ей счастья в её собственном «и там всё серьёзно. Это – жизнь…»
*В рапиде*
«Вилка, прокалывающая пельмени, из которых течёт сок…»
«Но я не могу и выхватить только тот, единственный удавшийся кадр, чтобы поставить его перед собой и восхищаться, потому что я не могу больше восхищаться. К тому же, он не может быть вырван из сцепки со всеми остальными, он дан в этой ленте, как не компонуй – части дурного кино, которое мне не приносит удовольствия, которое есть кино о том, что меня лишили удовольствия, и тем не менее, я продолжаю смотреть его до отупения, потому что голос нараспев произносит твоё имя, пока я плотно сжимаю губы и вилку в руках…»
Проживаю рапид.
*На песке*
«Я даже не видела, как он уходил в тот вечер и в какую сторону (ну да, очевидно, не по пути), возможно, последний».
«Нужно как-то отряхнуться и подойти к берегу, избегая своего отражения в помутневшей воде, и бросить бутылку с посланием. Быть может, ты сможешь открыть её».
*Эдемский сад*
Один из моих любимейших рассказов в книге Алёны Стрижовой.
«Винтовая лестница. Нет, это не было восхождение поступательное, соизмеряя каждый шаг, и страх высоты, и страх того, что движение продолжается. Здесь происходило кружение-скольжение. Отблеск света на твоём лице. Я щекотала тебя улыбкой. И соскользнула к тебе, как, впрочем, всегда соскакивает флирт на фаллос».
Сильнее не скажешь.
*Качели*
Funiculì funiculà – неаполитанская рекламная песня, написанная в ознаменование открытия не пользовавшегося популярностью первого фуникулёра на вулкане Везувий. Исполнялась, в частности, Анной Герман, Беньямино Джильи, Марио Ланца, Лучано Паваротти, Муслимом Магомаевым. Мелодию песни использовали Рихард Штраус (финал симфонической фантазии «Из Италии»), Николай Римский-Корсаков («Неаполитанская песня» для оркестра).
Лично я слышала «Фуникули фуникуля» на итальянском тысячу раз, но, когда руководитель Гомельского камерного хора спросила меня в присутствии всего коллектива, как перевести название разучиваемого коллективом популярного произведения, я не знала, и кто-то из певцов подсказал мне: «Качели». Большего позора я не испытывала… Хотя нужно иметь богатую фантазию, чтобы назвать «качелями» «фуникули фуникуля»…
«Ты – это качели, туда-сюда, ветер от самого раскачивания. Более мне ничего не нужно. Наилучший мужчина – труп. Настоящая любовь – та, которой никогда не было». Хорошее начало!
«Тут великолепный воздух и эдельвейсы. […] Их нужно сохранять в их несорванности. Этим нужно просто дышать».
Дышу атмосферой рассказа!
*Гонка*
В советское время любила смотреть «Формулу-1», а потом повезло посетить автодром в Монце, сидеть на трибуне V.I.P. и фотографироваться на подиуме.
«Быть может, на этот раз обойдётся без неотложки».
*Едва касаясь*
«Я никогда не боготворила его, а он никогда не протягивал мне руки…»
Гениальная вещь!
Рефлексия
Звук запаздывает за светом.
Слишком часто мы рты разеваем.
Настоящее – неназываемо.
Надо жить ощущением, цветом.
Андрей Вознесенский
О столь неординарной книге пишу необычно.
«Нехватка» вышла в 2012 году, когда автору было 26 лет; ко мне попала девять лет спустя!
Лада Баумгартен прислала мне карманный сборничек Алёны в 87 страниц. Я отнеслась к нему с опаской, памятуя то, что написано на обложке.
Пришлось погрузиться в теорию женской литературы, женского письма, хотя не привыкла оценивать литературу по родовому признаку: предпочитаю унисекс, но – в стиле от кутюр. В свете ФКЛ про написанный мною недавно роман-прет-а-порте́ подумала: «Таки – женское письмо! Ничего не попишешь…»
Склонна пока не брать в расчёт возраст и гендер автора книги «Нехватка»: просто вижу однозначно талантливого писателя, не просто тонко чувствующего и тонко мыслящего, но и филигранно оттачивающего пришедшие к нему тексты.
Вижу любящую, иногда – мятущуюся женщину, чаяния и проблемы которой мне близки и понятны: ими переболело в юности и молодости большинство моих сегодняшних ровесниц. Ими болеют сегодняшние традиционно девушки и женщины – в принципе, одинокие.
Хочется счастья, любви – а, как сказал небезызвестный современный классик-златоуст В.С. Черномырдин: «Где взять?»
Героини Алёны Стрижовой не мстят, не винят: они ищут причину в себе. Целеустремлённые и способные к самопожертвованию, идут на компромисс, не «качают права» и не раскачивают качели. Беззаветно-обречённо и бескорыстно любят: не всегда – успешно.
В героине Алёны Стрижовой нет ничего от современных воинствующих феминисток, борющихся за лучшее место под солнцем. Ей нужно просто быть, любить и быть любимой.
Нехваткой (в смысле не агрессивной и не жадной – в том числе, в любви) и собственно нехваткой назвала бы я героиню Алёны Стрижовой, умеющей говорить, писать и – молчать.